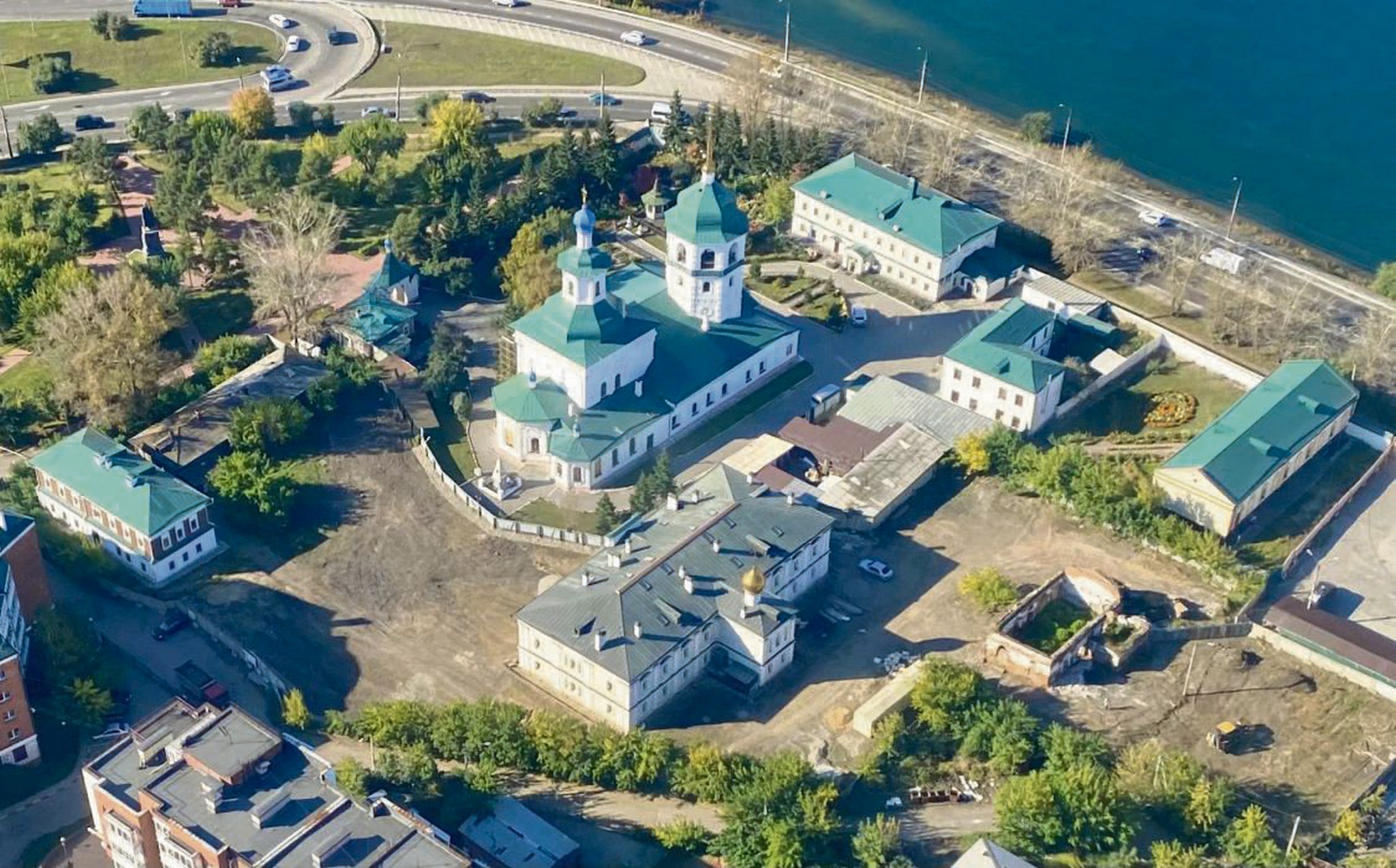В мире очень много музыки. Буквально все ею наводнено! Радио, телевизор, интернет, помещения супермаркетов, спортивных клубов и городских кафе… В повседневной суете мы редко задумываемся о том, кто создает все эти океаны звуков — простых и сложных, приятных и раздражающих, умных и разных. Композиторы. Кто они? В чем заключается их работа? Насколько она востребована в наши дни, в нашем городе? Об этом мы поговорили с иркутским композитором, солистом Иркутской областной Филармонии Дечебалом Григоруцэ.
— Дечебал, возможно, вопрос покажется странным, но зачем композиторы сочиняют новую музыку? Ведь и без этого есть музыка на любой вкус! И так много, что переслушать ее не хватит никакой жизни!
— Есть мастера, ремесленники (в хорошем смысле этого слова), которые создают разные материальные ценности: дома, одежду, мебель, украшения и т. д. Среди этих изделий встречаются очень качественные, которые служат порой очень долго. Но не вечно. Каким бы крепким ни был дом, однажды он разрушится.
Музыкальные произведения — тоже ценности. Но не материальные, а духовные. Они служат не нашему телу, но уму и чувствам. И они тоже нуждаются в постоянном обновлении. Старое теряет актуальность, его сменяет нечто новое. Подавляющее большинство музыкальных сочинений, подобно предметам ширпотреба, крайне недолговечны. Но существуют настолько добротные творения, что их жизнь длится веками. Такая музыка называется классической.
— А как часто звучит ваша музыка?
— Она чаще всего звучит в органном зале Иркутской областной филармонии в моем же исполнении. Я включаю ее в свои программы во многом благодаря поддержке иркутской публики. Когда на концерте чувствуешь живой отклик из зала, это окрыляет. Несколько раз бывало, что после концерта подходил кто-нибудь из слушателей и говорил о том, что «…старая классика — да, красиво. Но когда вы заиграли свою музыку, прямо вот душа зацвела!» Если бы не такие моменты, возможно, я бы и вовсе перестал сочинять музыку.
— Но, насколько я знаю, у Вас не только органная музыка?
— Да. Есть две симфонии, в том числе этносимфония «Рождение Байкала», две симфониетты, камерная опера на японский сюжет, большая пасхальная месса для хора и симфонического оркестра, 24 фортепианные прелюдии «Зодиак» и много чего еще. И большая часть этих работ еще ни разу не были качественно исполнены. А многое не звучало вообще никогда.
Но есть и приятные исключения. Например, давняя творческая дружба с Академическим хором молодежи и студентов Иркутского государственного университета и его дирижером Татьяной Ромащенко. Татьяна Анатольевна всегда находится в поиске нового, уникального, эксклюзивного репертуара. На этой почве мы и подружились. Уже и не сосчитать, сколько я им сделал всевозможных аранжировок. Десятки! Причем особенно удачным оказалось фольклорное направление. Мы начинали с еврейских народных песен, продолжили русскими, а теперь, наконец, приступили к бурятским.
Я беру народную тему, варьирую ее, как-нибудь необычно гармонизую, развиваю, добавляю что-то свое. В результате даже самые простые, архаичные темы начинают звучать богато, красочно, современно. Хорошей находкой оказалось добавление к звучанию хора ритмической основы: хлопки в ладоши, топот ног, барабаны, бубны, трещотки и т. д.
— Именно таким получился цикл «Сандаловые четки»!
— Спасибо (улыбается). Буквально через пару месяцев после сочинения двух заключительных частей (они звучат без перерыва) состоялась мировая премьера «Четок» в городе Приедор (Босния и Герцоговина), где хор нашего университета участвовал в международном фестивале «Златна Вила». И не просто участвовал, а получил золотую медаль и специальный приз жюри за лучшее музыкальное представление.
— А чем вас привлекли бурятские песни?
— В их ритмических повторах есть какая-то магия. Когда проникаешься ею, то как будто попадаешь в какой-то другой мир. Мир суровой, но прекрасной байкальской природы, дикой тайги, широких долин. В мир простых охотников, кочевников, животноводов, живущих незамысловатой, но на удивление чистой, свободной жизнью.
Ну и, конечно, бурятский язык. В процессе работы над циклом я пытался заниматься переводом песен. Задача оказалась не из легких. Интернет-словари почти ничем не помогли. Пришлось через знакомых искать людей, владеющих бурятским. Но даже они оказались в затруднении. Во-первых, диалекты. Их в бурятском языке немало, и некоторые существенно отличаются от литературного диалекта хори. Ну а кроме того, в тексте оказалось много старинных, вышедших из употребления слов. Поэтому местами смысл песен удалось понять лишь в общих чертах.
Но зато я узнал много интересного. Например, что Родина по-бурятски — это «нютаг», «аянга» — мелодия, «наадандаа» — танец, игра. А бурятская кукушка, оказывается, поет не «ку-ку», а «ху-хэ».
— Какова дальнейшая судьба «Сандаловых четок»? Они исполняются?
— После победы в 2018 году хор университета пел «Сандаловые четки» в Париже. Это уже в 2019. И все это время Татьяна Анатольевна упорно намекала мне: «Пиши еще! Это востребовано! Людям нравится!» Жизнь моя в то время была очень насыщенной, и завершение цикла затянулось еще на год. Хор уже начал его разучивать и даже показывать отдельные части иркутской публике.
Но тут грянула пандемия. Ну а в условиях всеобщей изоляции, сами понимаете, петь хором затруднительно. И никакой онлайн живому музицированию не замена. Отчасти по этой причине до сих пор не удалось качественно записать весь цикл от начала до конца. На сегодняшний день есть только любительские видео с концертов. Но мы не сдаемся, у нас большие планы на будущее.
— Будем надеяться, что цикл «Сандаловые четки» будет записан и еще не раз порадует иркутян, россиян, а может быть, и жителей других стран.
— Я тоже на это надеюсь. Мы живем в трудное для культуры время. Но, как однажды сказал композитор А. Шнитке, «…если бы не было надежд на улучшение, не было бы самой жизни».
Олег Степанов
Фото Марины Свининой