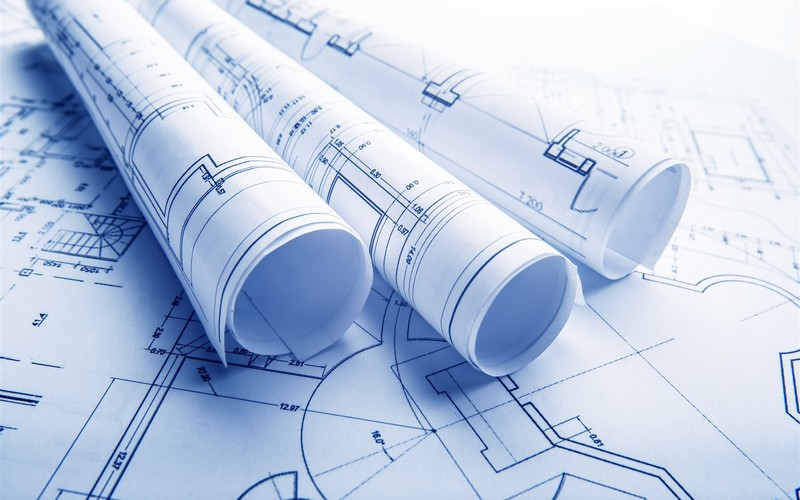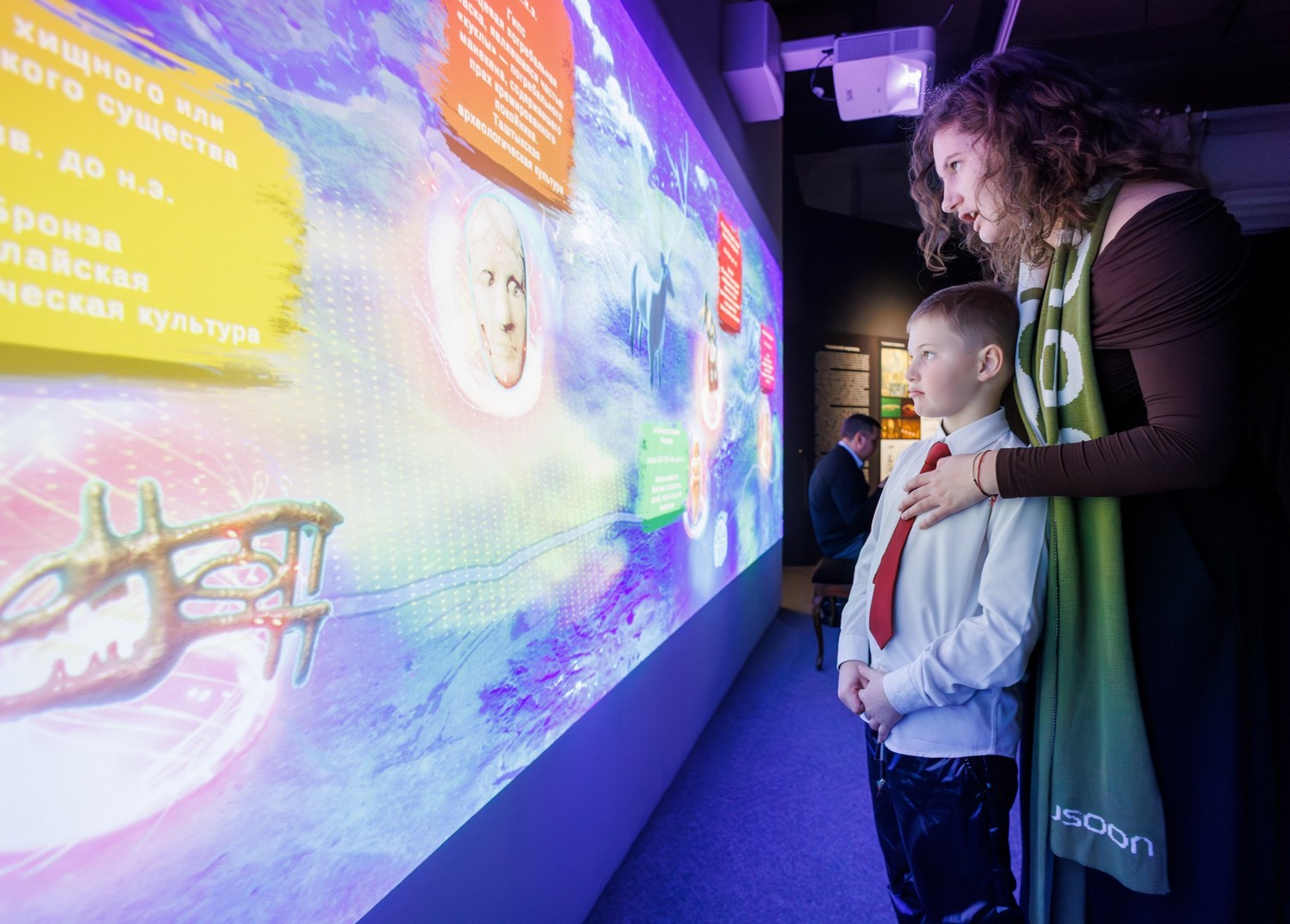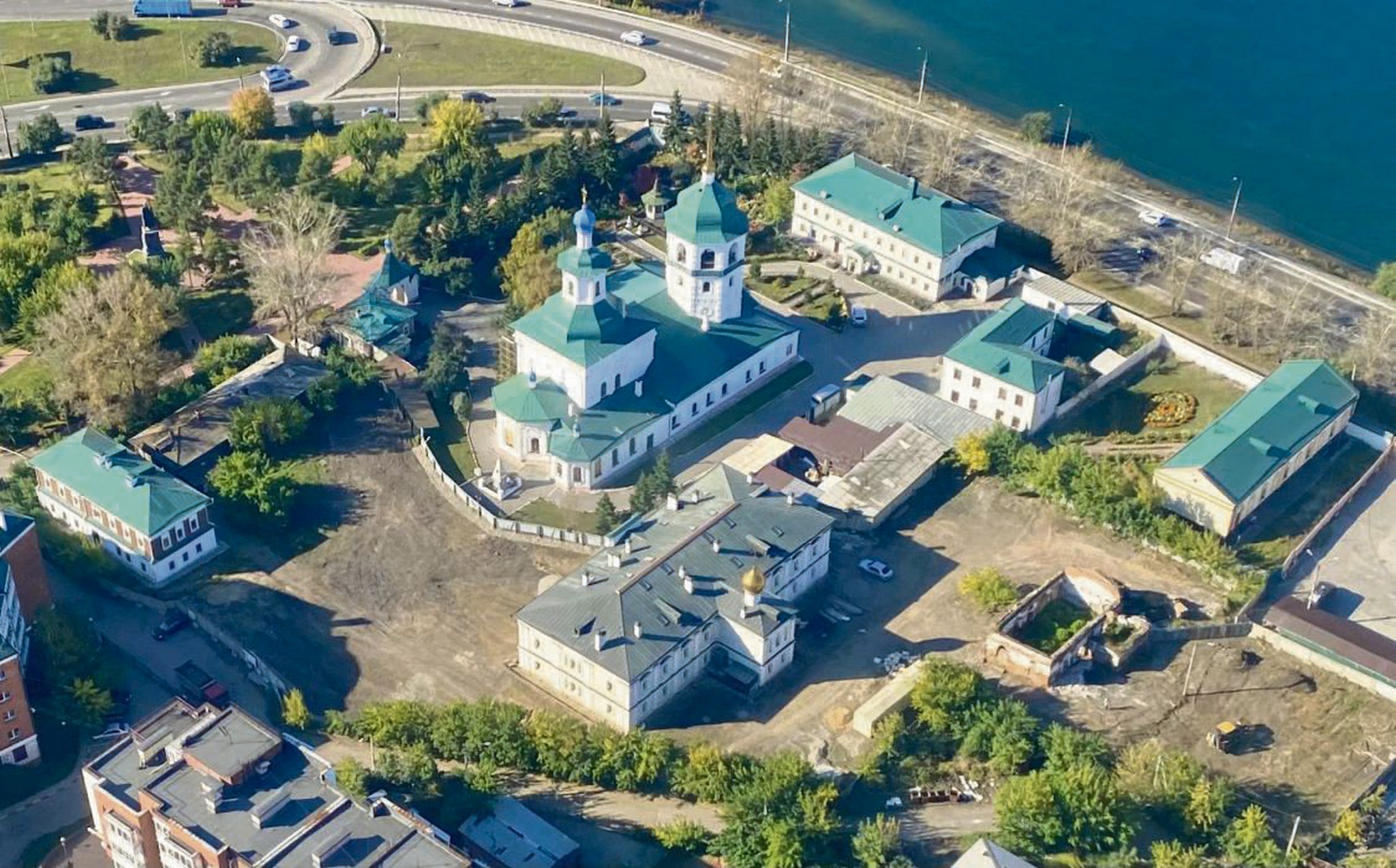None
Ты ожидаешь услышать тишину, но ее не будет. Здесь все как в обычной школе: шумные коридоры, много цветов в честь Дня учителя, любопытные детские взгляды. Только у каждого ребенка за ухом слуховой аппарат или наружная часть импланта. Это школа-интернат № 9 для глухих и слабослышащих детей. За всю слуховую работу в учебном заведении отвечает учитель-дефектолог, почетный работник образования Татьяна Александровна Исламова. Нынешняя осень — ее 31-й педагогический сезон. И до сих пор от своей работы она испытывает лишь трепет и восторг.
— Татьяна Александровна, отличается ли принцип работы со здоровыми и слабослышащими детьми?
— Да, я всегда говорю, что в общеобразовательной школе свои проблемы, у нас — свои. У них борются с плохой успеваемостью, драками, курением и употреблением алкоголя в старших классах. У нас такое встречается гораздо реже, но есть другая проблема: как вызвать у ребенка желание говорить? Наши дети не хотят общаться за пределами семьи и школы. Стесняются говорить вслух. Боятся, что их не поймут и не примут. Общаются жестами, хотя вполне могут изъясняться словами. Поэтому задача каждого педагога — приобщить ребенка к обществу слышащих, убедить его в том, что в мире существует множество звуков, мимо которых нельзя пройти.
— Часто удается достигнуть цели?
— Все индивидуально. Каждый малыш, как шкатулка, имеет какое-то наполнение: у кого-то содержимого мало, у кого-то больше. Чтобы наполнить, нужно очень постараться и родителям, и учителям: вложить силы, время, терпение, труд, деньги и, самое главное, любовь. Обязательно наступит момент, когда коробочка наполнится и начнется отдача. Вот тогда и нужно направить энергию в правильное русло, помочь ребенку адаптироваться в мире слышащих. Чем быстрее мы достигнем момента отдачи, тем больше шансов к социализации. К сожалению, в большинстве случаев наполнять коробочку приходится десятки лет. Тогда человек застревает в мире глухих. Но сколько бы ни пришлось работать, момент отдачи обязательно настанет. Отчаиваться нельзя.
— Когда у вас возникло желание стать учителем?
— Наверное, еще в детском саду. Я рано начала читать. Прекрасно помню себя четырехлетней. Воспитатель посадила меня на стульчик перед всей группой и дала в руки книгу — стихотворение «Кем быть?» Маяковского. Вот я сижу, читаю и постоянно делаю ошибки в ударениях. Воспитательница меня исправляет чуть ли не в каждом слове. И так мне стыдно, что я, четырехлеточка, так плохо читаю… А потом, уже когда подросла, в школе стала всем помогать по учебе.
— Был ли педагог, который вдохновил вас?
— Да, это моя первая учительница из Черемхова — Роза Александровна Митрофанова. Именно она — молодая, выдержанная, очень тактичная — пробудила желание учить. Я всю жизнь стараюсь быть похожей на нее.
— За годы работы сформировался свой педагогический кодекс?
— Конечно. Во-первых, я уверена, что добиться успеха можно только через «пряник». «Кнут» я не использую совсем. Многие говорят, что я мягкотелый учитель, что так нельзя. Но я стараюсь не наказывать детей, не ругать, не обижать. Наоборот, надо мотивировать ребенка, хвалить, осторожно наставлять. Важно уметь искренне восхищаться учеником. Я никогда не гашу свои эмоции. Восторженно и громко говорю: «Ой, как здорово! Ты такой молодец!» Положительная оценка творит чудеса.
Во-вторых, учитель должен быть терпеливым. Дети разные, и проблемы разные. Но нужно одинаково тепло относиться ко всем. Конечно, есть ребятишки, которых я просто обожаю — но это только внутри себя. Нельзя никого выделять, потому что это будет несправедливо. А дети очень тонко чувствуют несправедливость.
Ну и третье, самое простое и самое главное: надо любить детей. Без этого не получится ничего. А что такое любовь в широком смысле? Это понимание и прощение. Задача учителя — понимать ребенка и прощать его. Всегда. Когда он вредничает, когда устал, когда отвлекается и не слушает. Нужно дать этому маленькому человечку, который сидит перед тобой за партой, понимание: твой учитель — твой друг, и он примет тебя любым. И вот здесь уже нет разницы, в общеобразовательной школе учится дитя или в коррекционной.
Наш разговор прерывается школьным звонком: в 4 «А» начинается урок. Класс слабослышащих детей, пять школьников 10—12 лет. Татьяна Александровна вмиг сама становится 11-летней девчонкой: дует на бумажную бабочку, отправляя ее в полет, жужжит, как пчела, закрывая от школьников рот рукой. Так проходит слухо-зрительная работа: ученики стараются слышать звуки, а не считывать их с губ учителя. Затем — развитие мелкой моторики. Ребята плетут коврик техникой «корзинка». И в ход идет «пряник»: «Ах, Рита, какая ты молодец! Я бы так не смогла!» А вот у мальчишки, что рядом, совсем не получается. «Ой, Алешу пальчики сегодня не слушаются, но ничего. Давай мы тебе поможем? Как красиво у нас получается!»
— Помните свой первый педагогический успех?
— Помню. Это были мои первые годы работы в школе. Постановка звука «р». Я прекрасно знала теорию, потому что училась в Москве в самом сильном педагогическом институте страны, но на практике именно «р» никак не получался. Каждый раз я открывала книгу, садилась рядом с ребенком и пыталась его научить. Про себя повторяла: «Обязана сделать!» И сделала. Три года спустя. Однажды на занятии мальчик «зарычал»! У меня тогда столько радости было! Он и сам тогда понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее, — так я была счастлива. Сейчас я практически любому ребенку могу поставить «р».
— Что для вас сегодня является главным показателем успеха в работе?
— Случаи после имплантации. Ребенок после операции приходит ко мне на занятия и не слышит ничего. Спустя время (иногда требуется до семи лет) он начинает различать все звуки на расстоянии 6—7 метров. И тогда родители признаются: «Мы забыли, что до занятий у нас был глухой ребенок». Вот это для меня главный показатель успеха.
— У каждого в жизни бывают профессиональные кризисы, минутные слабости. Возникало ли желание уйти из профессии?
— Был один трудный год, судя по всему, посланный, чтобы испытать меня на прочность. Тогда, в 1998 году, случилось много жизненных передряг: потеряла маму, родился не совсем здоровый ребенок. Мне тогда было крайне тяжело. Трудно было жить, трудно дышать. Я решила кардинально поменять свою жизнь и начала с профессии: собралась в юриспруденцию. Уже начала копить деньги на второе высшее образование, несколько месяцев была настроена решительно. А потом в один миг передумала. Что-то меня остановило. Помню, встала посреди улицы и задумалась: «Как же это я от детей уйду? Как променяю такое благостное общение на деловые бумаги и работу в офисе? Нет, я так не смогу. По детям заскучаю». И отбросила все эти мысли.
Осталась учителем. Сменила только место жительства: из Черемхова уехала в Иркутск, где живу и работаю уже почти 20 лет.
— Что вам дает работа сегодня?
— Очень многое. С детьми я молодею душой, смотрю мультики, узнаю что-то новое. Например, приходит ко мне восьмилетний ребенок, приносит с собой картинку. Я ему: «Птица», он мне: «Нет». Оказалось, герои компьютерной игры Angry Birds. С детьми очень интересно разговаривать. Они со мной делятся сокровенным, а я в свою очередь выслушиваю, успокаиваю, помогаю советом.
Ну и самое главное — это детские горящие глазки. Все ради них. Вот я 33 года работаю с детьми, 31 год в школе. Кажется, пора бы уже привыкнуть к 1 сентября. Ничего подобного! Когда я вижу, как все они обнимаются и радуются при встрече, во мне просыпается какой-то необыкновенный учительский драйв, восторг и трепет. Хочется дать детям как можно больше, чтобы все они были счастливы. Тридцать лет ходить на День знаний и каждый раз испытывать подъем чувств — это дорогого стоит.
Фото Валентина Карпова
Поделиться в соцсетях: